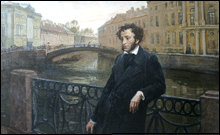ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА
Кто не испытал на себе удивительного, неотразимого воздействия пушкинской поэзии?
Ещё не умея читать, ещё не вникая в смысл, - но уже с восторгом, то радостным, то грустным, - кто не слушал зачарованно:
В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Тучка по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
(«Сказка о царе Салтане»)
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
(«Сказка о мёртвой царевне»)
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
(«Зимний вечер»)
Гармония, музыка, какая-то завораживающая пластичность пушкинского стиха действуют сразу, мгновенно, неотразимо, даже прежде смысла, прежде содержания и реального значения образов:
Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат,
Кони бедного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из Аида бога мчат.
(«Прозерпина»)
А потом, в юности, мы начинаем открывать в каждом слове Пушкина дали и глубины, существование которых уже предчувствовали, начинаем постигать неисчерпаемое
содержание и постигаем его вновь и вновь, при каждом новом чтении.
Происходит удивительная, вдохновляющая, но часто и мучительная встреча с героями «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», маленьких трагедий, «Капитанской дочки»,
«Медного всадника»… Пимен завершает свой летописный труд («Ещё одно, последнее сказанье, и летопись окончена моя…»); Татьяна расстаётся с Онегиным («А счастье
было так возможно, так близко!..»); Сальери бросает яд в стакан Моцарта («Ты заснёшь надолго, Моцарт! Но ужель он прав, и я не гений?..»); поёт свою песнь в
честь чумы Вальсингам («Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю..»); бедный Евгений с ужасом слышит «тяжело-звонкое скаканье по потрясённой мостовой».
Всё это «энциклопедия русской жизни» (Белинский), энциклопедия человеческой жизни, всё это – поэтический мир Пушкина, сотворённая им вселенная. Она – ясна и
в то же время постоянно разгадываема, радостна, но часто и так печальна!
Почти необозримая, поэтическая эта вселенная включила в себя жизненное содержание одной из самых значительных эпох в истории человечества и истории
России. Пушкин стал «с веком наравне» не только в просвещении (слова из послания «Чаадаеву», 1821), но прежде всего – и это главное – в искусстве. Пушкин был не
только самым современнейшим из художников своей бурной эпохи, но её органом, её голосом, её «эхом», что удавалось только самым великим. Он понял поэзию
современности и современного человека и сохранил её живой для потомства, удвоив, учетверив, удесятерив её пафосом своей собственной, безгранично прекрасной душевной поэзии.
Пожалуй, одно из чаще всего повторяющихся в пушкинском лексиконе слов – свобода (или равнозначные – вольность, воля). Бесконечны оттенки смысла и содержания
этого слова у Пушкина. Но главный, сокровенный смысл его – всегда одинаков. Пылко, страстно, по велению своей благородной, чистой натуры, воспринял поэт, выйдя из лицея, идеи политической свободы – в кругу своих новых приятелей,
близких к ранним декабристским организациям. Эти идеи дороги Пушкину. Это его поэзия, его лирика. (Ещё в лицейском стихотворении «Лицинию» поэт нашёл точную и
лаконичную формулу: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».) И пусть Пушкин думает в это время, будто вольность народов может быть обеспечена путём
ограничения самовластья законами («Вольность», «Деревня»). «Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок» - вот что воспринималось в пушкинской
вольнолюбивой лирике как главное, вот что вдохновляло русских революционеров, не только декабристов. А в стихотворении «К Чаадаеву» (1818) и прямо говорилось о
грядущих «обломках самовластья».
В самодержавной России в эти годы уже зарождались первые революционные организации – пока ещё революционеров-дворян. Европа была охвачена пожаром
революций. Итальянские карбонарии подняли восстание в Неаполе (1820), восстала в 1821 году за национальную свободу Греция (в этой борьбе принимал участие кумир
молодого Пушкина – Байрон), разразилась революция в Испании (1820-1823). Раскаты грома доносятся и до неподвижной России. Всё это волнует и будоражит Пушкина,
откликается в его произведениях, тем более что эти годы, с весны 1820, он, сосланный за вольнолюбивые стихи, проводит на юге, вблизи восставшей Греции.
Поэт чувствует себя борцом-изгнанником.
Но очень скоро с глубокой и мучительной горечью Пушкин убеждается, что его самозабвенная пропаганда вольности не даёт тех быстрых результатов – не только в
борьбе с самовластьем, но и с общественной косностью, с неподвижностью народа – тех зрелых плодов, которых он так ждал, так жаждал:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды:
……………………………….
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Политические идеи Пушкина не остались неизменными. Он заинтересованно, страстно, поистине лирически воспринимает исторический опыт Великой французской революции,
современных революционных движений в Европе и России, а позднее - уже в тридцатых годах – крестьянских бунтов своего времени (например, бунтов военных
поселений в 1830 г.) и грандиозных народных революций прошлого – разинской и особенно пугачёвской.
Лелея в душе и сознании своём идеал «вольности святой», поэт, как никто, чувствовал мрачный ужас рабства, того «рабства тощего», что «влачится по браздам
неумолимого владельца» («Деревня», 1819). Но душу поэта омрачает не только рабство русского крестьянина, он смотрит шире, он создаёт обобщение трагической
силы – древо смерти, «анчар» - символ неограниченного самовластья, присвоившего себе право обрекать на смерть, и неограниченного рабства, послушно принимающего
смерть («Анчар», 1828).
Почти перед самым восстанием декабристов Пушкин писал в стихотворении «Андрей Шентье»:
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет…
И хотя эти слова произносит в стихотворении Пушкина французский поэт, погибший на эшафоте, ясен их автобиографический подтекст. В конце жизни Пушкин ставил
себе в заслугу то же самое – что в свой жестокий век восславил он Свободу («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 1836).
И как поэт и человек, с самого детства, с пробуждения сознания, Пушкин был, так сказать, стихийно, естественно свободен. И эту свою свободную
непосредственность он уже в лицейские годы проявлял в любом поступке, любой мысли, любой стихотворной строчке.
Тем острее и болезненнее воспринимал Пушкин любое посягательство на своё личное достоинство, на свою личную и поэтическую независимость, что всю жизнь был он
скован по рукам и ногам как поэт и как человек. Всю жизнь он защищал свой человеческий и поэтический мир от непризванного вмешательства. Так появляется и
развивается в его поэзии постоянная тема: «Поэт и толпа» - толпа, насилующая свободную волю поэта-творца, то есть, в сущности та среда, из которой Пушкин сам
вышел и которая в силу обстоятельств была почти единственной ареной его деятельности.
На попытки руководить его вдохновением, направить его творчество на служение политическим задачам Пушкин отвечал:
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм…
(«Поэту», 1830)
Каким гордым упорством, ценой каких мучений оплачивал поэт эту свою позицию – «останься твёрд, спокоен и угрюм»!
У царя и его приспешников имелось много средств и без реальных железных цепей и решёток, чтобы «оковать» поэта, унизить его, сломить его гордость и непокорство,
надеть на него «ливрею». Пушкин же теперь мог надеяться только на себя, потому что даже ближайшие его друзья (после декабристов, уничтоженных Николаем I) –
Жуковский, Вяземский – не понимали, да и не могли понять, что поэт давно перерос привычные для них житейские мерки, которыми они продолжали измерять его
личность, его поведение, его искусство.
Силы, конечно, были неравны. Цепи, опутавшие поэта, к концу его жизни
стягивались всё туже и туже. Вырваться, порвать их он был не в состоянии.
Пушкин принадлежал к числу мировых гениев, которые исключительно остро,
исключительно ясно понимали масштабы и историческое значение своего творчества и поэтому втайне, скрывая это даже от самих себя, глубоко переживали непонимание,
а иной раз и отчуждение известной части читательской массы, мечтая о читателе-друге (о существовании у него друзей, демократической аудитории Пушкин
ещё не знал, это, увы, выяснилось лишь на его похоронах).
Свою поэтическую власть, власть духа, мысли, красоты, противопоставлял он царской, мирской власти. «Ты царь, - восклицал он, обращаясь к поэту, - живи один».
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа.
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
(То есть колоссального памятника Александру I на Дворцовой площади в Петербурге.)
В трезвом понимании своего значения Пушкин при жизни нашёл поддержку, пожалуй, лишь у двух великих современников – Гоголя и молодого Белинского…
Отношения же толпы, которая «взирает на поэта, как на заезжего фигляра» («Ответ анониму», 1830), Пушкин испытывал ежедневно, ежечасно.
В 1835 году он подвёл итог своему горькому жизненному опыту:
О люди! жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век.
Но чей высокий лик в грядущем поколенье.
Поэта приведёт в восторг и в умиленье!
(«Полководец», 1835)
Ещё во время южной ссылки Пушкин хотел бежать из царской России. Об этом же думал он и в Михайловском заточенье.
Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.
(«Евгений Онегин», гл. I)
Но поэту не суждено было жить «Под небом Африки», и, конечно, не только потому, что в Крыму удерживала его от «поэтического побега» морем «могучая страсть» к
женщине («К морю», 1824), или позднее, при попытке скрыться за границу из Михайловского заточения, не помогли друзья.
«Всё должно творить в этой России и в этом русском языке», - писал Пушкин в заметке «Только революционная голова…». Он хотел быть самым деятельным
участником этого творчества, и мог он творить только здесь, в России. Почва его была – московская, псковская… Он понимал, что именно он призван творить «в этой
России», в «этом русском языке». Его удерживала страстная привязанность к родной земле, кровное родство с родным народом, о котором в «В путешествии из Москвы в
Петербург» проникновенно сказано: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлёности и
говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны…». Кто до Пушкина умел так понять душу народа, его мораль, его
борьбу, его поэзию? Пушкин создал народную трагедию «Борис Годунов» - народную по идее, духу, оценкам. Как-то поэт сказал, что не смог упрятать своих ушей под
колпак юродивого: торчат. Тем самым он указал нам путь к правильному пониманию своей трагедии. Юродивый высказывает сокровенную пушкинскую мысль, и в то же
время – это мысль народная, совесть народная, осудившая и покаравшая царя Бориса не как цареубийцу, а как детоубийцу. «Нельзя молиться за царя Ирода!» - приговор
Борису, конец его, его окончательная моральная оценка. Народ безмолвствует в финале трагедии: он не может славить и нового царя – тоже детоубийцу.
Пушкин глубоко понял и противоречивую, борющуюся народную Россию, противоречивую стихию народного бунта и мятежа. Величественный, поистине царственный образ
великодушного и человечного «Емельки» Пугачёва бросает яркий свет на ровное и как бы нарочито бесцветное повествование дворянского сына Петра Гринева
(«Капитанская дочка»).
В народной России было спасенье Пушкина. «Побег» в эту Россию означал бы окончательный разрыв со своей, в сущности глубоко ему чуждой, общественной
средой. И такой «побег» в конце концов был неизбежен для Пушкина. В его поэзии были сделаны хотя и первые, но воистину гигантские шаги в этом направлении.
Об «уходе» от всего того, что стало ненавистным, от того мира, который стал чужд и враждебен, о «побеге» за черту, которая была до сих пор запретной, - от
рабства к новой, ещё неизведанной свободе, - мечтал, особенно в последние годы, Пушкин:
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
(«Пора, мой друг, пора!...», 1834)
В 1835 году Пушкин написал удивительное, почти загадочное стихотворение «Странник» - переложение нескольких страниц прозаического произведения
английского проповедника XVII века Джона Беньяна «Путешествие пилигрима». «Читая эти странные стихи», - говорил Достоевский в «Речи о Пушкине», - вам как бы
слышится дух веков Реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, сама история, и не
мыслью только, а как будто вы сами там были, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они
поверили». Но их дело, наверное, не только в удивительном пушкинском даре «перевоплощения», проявившемся и в стихотворении об английском «пилигриме»,
страннике XVII века. Случайно ли почти совпадение слов о самом себе в лирическом стихотворении – «Давно, усталый раб, замыслил я побег» («Пора, мой друг,
пора!...») и о герое стихотворения повествовательного, почти эпического – «Как узник, из тюрьмы замысливший побег». «Странник» - произведение о человеке,
осмелившемся разорвать все общественные, родственные, дружеские связи – связи с изжитым уже прошлым, - о человеке, осмелившемся освободиться (а это не просто!).
Мы чувствуем в этих стихах душу самого Пушкина, жаждущего освобождения, расчёта, разрыва с прошлым, а не только душу «английского ересиарха» (разумеется,
фанатизм сектанта был совершенно чужд Пушкину).
Какое бы то ни было соглашение между поэтом и «толпой» было немыслимо, невозможно. Невозможно и потому, что поэт Пушкин, как он был и как он понимал
свою высокую миссию, не имел ничего общего с тем представлением о поэте, которое было широко распространено, внедрено и воспитано теориями русского классицизма.
Уже в лицейских стихотворениях Пушкина появляется образ истинного поэта, друга муз; не скованного какими бы то ни было, а в особенности классицистическими
литературными догмами, поэта, которым управляет лишь его внутренняя потребность излить накопившиеся мысли, чувства и ощущения, поэта, очень остро и живо
откликающегося в своих непосредственных созданиях на все «впечатленья бытия», если эти впечатленья затрагивают, колеблют симпатические струны его души.
Драгоценно это лирическое и полностью автобиографическое признание Пушкина, с которого начинается восьмая глава «Евгения Онегина»:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цинцерона не читал.
В те дни в таинственных долинах,
Близ вод, стоявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Манифестом этой «природной», естественной непосредственности творчества явились знаменитые строки из «Разговора книготорговца с поэтом» (1824):
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихрь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шёпот речки тихоструйной.
Здесь, ещё в совершенно романтическом духе, Пушкин отстаивает свою независимость от «толпы», от аристократической черни, подобно той, которая пришла поглазеть на
заморское диво – поэта-импровизатора («Египетские ночи»).
Пушкин отверг антихудожественную эстетику схоластического «государственного»
классицизма и притязания власть имущих на поэтическое оформление их политических и моральных идей. Всем своим творчеством Пушкин утвердил ту бесспорную ныне
истину, что поэзия есть волшебно безграничное в своих возможностях отражение и выражение жизни человеческой – её движения, борьбы, страстей, её красоты и
безобразия, её яркой и пёстрой оболочки и её невидимых глазу сокровенных духовных и душевных глубин. Это поэзия-«художество», по слову Белинского,
определившего пафос творчества Пушкина – назначение, смысл, направленность и цель его – как «художественность».
Гениально проницательная, живая, откликающаяся на всё многообразие жизни, личность Пушкина сродни натуре созданного им самим Моцарта («Моцарт и Сальери»),
искусство для которого – тот естественный язык, на котором говорят, вовсе не зная его законов. Сальери же своим самоцельным, несвободным, хотя и блестящим
мастерством, своим холодным анализом умертвил искусство: «Музыку я разъял, как труп, // Поверил алгеброй гармонию…»
Позднее, в стихотворении «Осень» (1833), Пушкин дал научно точное и одновременно высокопоэтическое описание творческого процесса – уже с начала и до конца реалистическое:
… И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей,
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
(«Осень», 1883)
Здесь уже нет «священной жертвы» Аполлону, ни «божественного глагола», заставляющего «встрепенуться» душу поэта («Поэт», 1827), а лишь простая картина
русской природы, русской поздней осени, вызывающей у поэта прилив творческих сил – особую настроенность «звучащей» души, жаждущую излиться «свободным
проявленьем».
И не только душа поэта «трепещет и звучит» - «мысли в голове волнуются в отваге». Мудрая осознанность каждого образа, любого чувства, настроения, ощущения, даже мимолётного, - если они становятся содержанием поэтического
произведения, - эта мудрая и зрелая мысль меняет и характер свободной творческой непосредственности – как бы поднимает, облагораживает, очищает её. Пушкин
поэтически оформляет своё чувство не только в момент его непосредственного переживания, он, как гениальный поэт, может вновь вызвать пережитое чувство –
очищенным от случайности, более значительным. Это уже, по словам Белинского, «не просто чувство человека, но чувство человека-художника».
Невозможно не почувствовать небывалой и неповторимой гармоничности пушкинской натуры и пушкинской поэзии. Что может быть яснее, гармоничнее, радостнее картины
зимнего утра: «Мороз и солнце, день чудесный..», безмятежно-ясных аккордов светлой печали: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», живописного изображения
античного пиршества:
Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым: другой открывает амфору,
Запах весёлый вина разливая далече; сосуды
Светлой студёной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой – всё готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют…
(«Из Ксенофана Колофонского», 1833)
Что, наконец, может быть уравновешеннее, пластичнее этого благоговения «перед святыней красоты»:
Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей…
(«Красавица», 1832)
Но Пушкин знал и другие лики красоты, его глубины и пропасти – её страдания, разорванность, гибель, - её трагизм. Он знал красоту, которая не была выше мира
и страстей… Уже в отроческие годы, «в начале жизни», влекли поэта два кумира, два бога, «двух бесов изображенья» - Аполлон, бог поэзии, и Афродита, богиня красоты и любви.
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной.
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
(«В начале жизни школу помню я…», 1830)
Это уже совсем иное отношение к красоте, иное её ощущение и переживание. Это уже красота, неотделимая от страдания и лжи, красота не только Татьяны Лариной, но и
Клеопатры. «Одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия…» - говорит один из персонажей «Каменного гостя». Эта мелодия часто становится у Пушкина бурной,
порывистой, дисгармоничной:
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, -
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Конечно, гармония всегда присуща созданиям Пушкина, но отнюдь не в смысле успокоенности, безмятежности содержания, а в смысле лирического его «очищения» и
вместе с тем – высочайшей художественной организованности, точности, меры.
«При отыскании красоты, - писал Достоевский, - человек жил и мучился». Так жил и мучился Пушкин, отыскивая идеалы в прошлом и настоящем, отвергая многое на своём трудном пути, тем бросая свет в самое отдалённое будущее. Для нас пушкинские
поиски и пушкинские идеалы – прошлое, но живое, не бесплодное прошлое. «В этом энтузиазме <…> перед идеалами красоты, созданные прошедшим и оставленными нам в
вековечное наследство, - продолжал Достоевский, - мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашей собственной жизнью, а напротив, от
пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся».
В своих постоянных исканиях, в своём «вечном движении» дух свободного
творческого исследования ставит Пушкин превыше всего. Чтобы идти «дорогою свободной», нужно было незаурядное мужество, доступное немногим; это в самом
деле «подвиг благородный», - как сказано в сонете «Поэту», потрясающем какою-то уже почти сверхъествественной мощью, - подвиг жизни Пушкина, его собственная
судьба изгнанника. Недаром и в творчестве его поэт – изгнанник, гонимый:
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
(«В степи мирской печальной и безбрежной…», 1827)
Как орган, как голос свободной мысли и свободного творчества, Пушкин среди своих современников, иной раз даже близких друзей, не мог быть не кем иным, как
изгнанником. Но это было изгнание в будущее. Другой гений, Гоголь, проницательнейше заметил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» («Несколько слов о Пушкине»).
К. Тюнькин ©
Вступительная статья к изданию: А.С. Пушкин. Стихотворения. Москва, «Художественная литература» 1972.